Как переживают горе в крупных городах России
Проверка критериев затяжного расстройства горевания МКБ-11 и DSM-5 при помощи кластеризации.
Аннотация
Я исследовал выборку из 271 человека, потерявших близкого за последние 5 лет. Разделил их на кластеры и выявил, что:
В исследовании использовались данные онлайн-опроса с адаптированными критериями из МКБ-11 и DSM-5. Таким образом сделан первый шаг к проверке релевантности этих критериев для русскоязычной части населения России. В статье обсуждаются дальнейшие возможные исследования и даются практические рекомендации.
- В среднем 16% могут иметь затяжное расстройство горевания (ЗРГ, PGD, PCBD), что близко к относительным значениям в других работах.
- В среднем 60% обладают вполне обычным способом переживания потери, при этом среди этой группы есть разные типажи.
- Около 20% испытывают различные сложности в переживании потери.
В исследовании использовались данные онлайн-опроса с адаптированными критериями из МКБ-11 и DSM-5. Таким образом сделан первый шаг к проверке релевантности этих критериев для русскоязычной части населения России. В статье обсуждаются дальнейшие возможные исследования и даются практические рекомендации.
Проблема
В русскоязычном исследовательском поле нет публикаций в которых оценивают адекватность критериев затяжного расстройства горевания (ЗРГ) предложенных в МКБ-11 и/или DSM-5. Нет ни теоретических, ни исследовательских работ, шкалы и опросники так же не адаптированы. В то же время всё это нужно для:
- Просвещения среди исследователей, практиков и более широкой публики о проблемах переживании утраты и рисков ЗРГ.
- Построения программ и протоколов помощи скорбящим.
- Повышения качества дифференциальной диагностики расстройств (ПТСР, Депрессии и ЗРГ).
Моё разведочное исследование сделано для проверки гипотез, методологии и исследовательского инструментария. Его результаты вряд ли могут дать ответы на актуальные практические вопросы, однако помогут продвинуть исследования дальше.
Первым шагом к адаптации критериев ЗРГ должна быть проверка возможности дифференциации с их помощью тех кто испытывает трудности при переживании горя от тех, кто таковых не испытывает. Важно проводить эти исследования, чтобы учесть локальные культурные контексты. Подобные исследования уже проводятся во многих странах, например в Германии, Китае, Непале, Бразилии и других странах [1; 2; 4]. Изучение форм переживания утраты заслуживает внимания ещё и потому, что в России живёт множество этносов, члены каждого из которых обладают своей культурой горя.
Без адекватной адаптации мы не можем ни вести диалог с международным исследовательским сообществом, ни обмениваться практическим опытом. В моём исследовании сделана половина первого шага: я пытаюсь проверить удасться ли с помощью критериев предложенных в МКБ-11 и DSM-5 отделить группу людей потенциально имеющих ЗРГ. Для этого был подготовлен опросник, результаты которого при группировке должны дать сопоставимое с другими исследованиями доли процентов.
Так были сформулированы три следующие гипотезы — о наличии в выборке группы людей с маркерами ЗРГ; о том, что их доля будет 10%, как и в других похожих исследованиях; и о том, что большая часть людей будет вполне обычно переживать потерю.
Первым шагом к адаптации критериев ЗРГ должна быть проверка возможности дифференциации с их помощью тех кто испытывает трудности при переживании горя от тех, кто таковых не испытывает. Важно проводить эти исследования, чтобы учесть локальные культурные контексты. Подобные исследования уже проводятся во многих странах, например в Германии, Китае, Непале, Бразилии и других странах [1; 2; 4]. Изучение форм переживания утраты заслуживает внимания ещё и потому, что в России живёт множество этносов, члены каждого из которых обладают своей культурой горя.
Без адекватной адаптации мы не можем ни вести диалог с международным исследовательским сообществом, ни обмениваться практическим опытом. В моём исследовании сделана половина первого шага: я пытаюсь проверить удасться ли с помощью критериев предложенных в МКБ-11 и DSM-5 отделить группу людей потенциально имеющих ЗРГ. Для этого был подготовлен опросник, результаты которого при группировке должны дать сопоставимое с другими исследованиями доли процентов.
Так были сформулированы три следующие гипотезы — о наличии в выборке группы людей с маркерами ЗРГ; о том, что их доля будет 10%, как и в других похожих исследованиях; и о том, что большая часть людей будет вполне обычно переживать потерю.
Гипотезы
Итак, три гипотезы: о наличии группы с высоким риском ЗРГ, её процентном отношении к выборке и превалировании обычного процесса переживания утраты.
- В данных опроса будет обнаружена группа людей обладающих большим числом маркеров ЗРГ и при этом время прошедшее с последней острой потери будет больше года.
- Означенная группа будет составлять около 10% от выборки.
- В данных опроса будет найдена группа в которой люди встретившиеся с утратой более года назад будут обладать узким спектром маркёров обозначенных в МКБ-11, а так же будут оценивать свою жизнь как «наименее нарушенную утратой». Такая группа будет составлять более половины выборки.
Первая и вторая гипотезы основаны на том, что в генеральной совокупности существуют люди с трудностями в переживании утраты. Я ожидаю, что их в выборке будет около 10%. Потому что вдругих работах мы видим числа такого же порядка. Так в большой обзорной работе Камиль Вортман и Катрин Боэрнер [3] они приводят данные ряда исследований в которых доля людей с трудностями в переживании горя от 8 до 30% . В обзорной работе по ЗРГ Александер Джордан и Бретт Литц [5] приводят данные исследований распространённости этого расстройства от 10 до 20 % всех столкнувшихся с потерей.
Третья гипотеза основана на том, что подавляющее большинство людей справляются с потерей сами, с помощью близких и используя различные культурные практики. Вортман и Боэрнер в своей статье развеивают множество предубеждений о потере и в частности миф о необходимости помощи всем переживающим потерю. Также они отмечают широкое разнообразие маршрутов по которым идёт переживание и «норма» крайне неоднородна по своим проявлениям.
Третья гипотеза основана на том, что подавляющее большинство людей справляются с потерей сами, с помощью близких и используя различные культурные практики. Вортман и Боэрнер в своей статье развеивают множество предубеждений о потере и в частности миф о необходимости помощи всем переживающим потерю. Также они отмечают широкое разнообразие маршрутов по которым идёт переживание и «норма» крайне неоднородна по своим проявлениям.
Опрос
Опрос я проводил с помощью анкет, в которых спрашивал о наличии потери за последние 5 лет и о том сколько конкретно времени прошло с момента самой значимой, просил выбрать что сейчас испытывает человек и оценить тяжесть нарушений в обыденной жизни после этой потери. Дата опроса 15 апреля 2022 года.
Структура анкеты
Вопросы анкеты выстраивались так, чтобы воспроизводить логику диагностики ЗРГ. Всего я выделил три группы критериев:
Вопросы анкеты выстраивались так, чтобы воспроизводить логику диагностики ЗРГ. Всего я выделил три группы критериев:
- Время с момента потери
- Описания внутренних состояний
- Степень нарушения в обыденной жизни
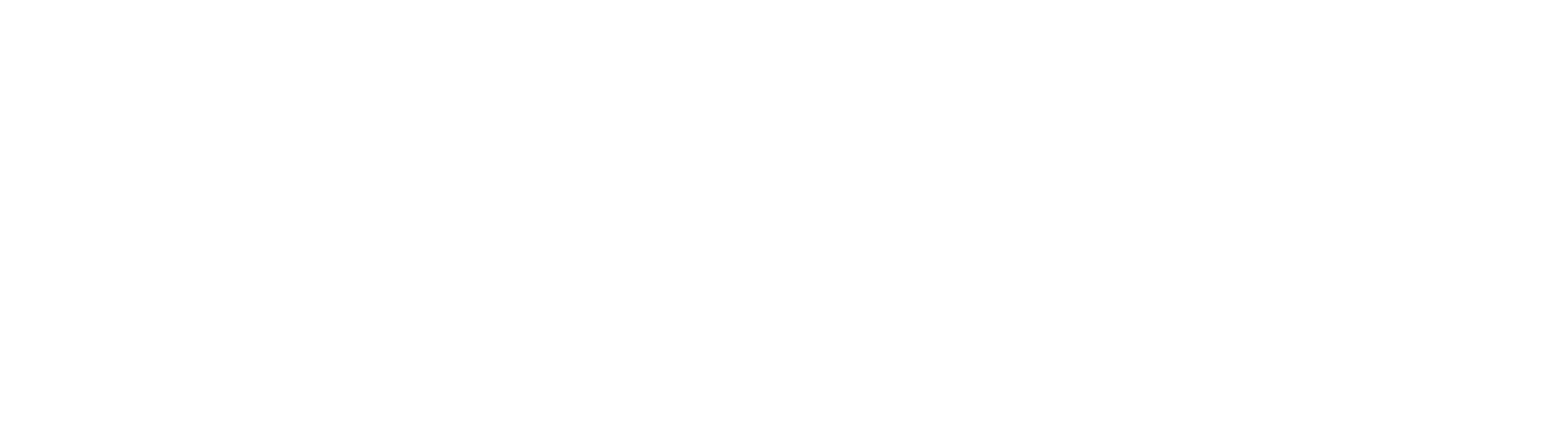
Структура опросника
Ниже можно почитать почему именно такие вопросы использовались.
Задача первого вопроса — отсеять тех, кто не терял близких, так как задавать им вопросы бессмысленно. Помимо этого можно косвенно оценить «правдивость» данных, более подробно в разделе Результаты и интерпретация. Респонденты могли ответить только «Да» или «Нет»
В первом вопросе используется 5 лет как критерий отсечения. В работе Вортман и Боэрнер [3] разбирается вопрос устойчивости «хронического» горя, для проверки исследуются люди потерявшие близких до 4 лет назад (48 месяцев). Мною было решено выбрать 5 лет из-за простоты формулировки, в будущих исследованиях стоит придерживаться используемых в других работах временных интервалах, это повысит возможности сопоставления результатов.
В первом вопросе используется 5 лет как критерий отсечения. В работе Вортман и Боэрнер [3] разбирается вопрос устойчивости «хронического» горя, для проверки исследуются люди потерявшие близких до 4 лет назад (48 месяцев). Мною было решено выбрать 5 лет из-за простоты формулировки, в будущих исследованиях стоит придерживаться используемых в других работах временных интервалах, это повысит возможности сопоставления результатов.
Второй вопрос разделяет выборку по разным временным интервалам с момента потери. Срок прошедший с с момента потери важный пункт при диагностике ЗРГ, а так же сопоставлении «маршрута» горя и возможного распределения интенсивности реакций в подгруппах.
Респонденты выбирали один вариант из списка:
Респонденты выбирали один вариант из списка:
- Это было совсем недавно
- Прошло около полугода
- Прошёл год
- Прошло больше двух лет
Третий вопрос оценивает как человек оценивает своё состояние и каково разнообразие реакций на потерю. Помимо описаний состояний была добавлена формулировка «Ничего из перечисленного» для того, чтобы отделить людей не находящихся в этих состояниях. Респонденты могли выбрать несколько состояний из списка:
- Тяжело и печально
- Стараюсь не вспоминать
- Тоскую, хочу снова встретиться с ушедшим
- Кручу мысли об обстоятельствах потери
- Чувствую свою вину
- Гневаюсь
- Ничего из перечисленного
Четвёртый вопрос завершает анкету и нужен для определения субъективной тяжести потери, что является важной частью определения ЗРГ при диагностике. Респондентам предлагалось оценить по 5 бальной шкале от «незначительно» до «полностью»
Вопросы о давности утраты, о проявлениях и о субъективной тяжести позволяют разделять выборку на группы или типажи. Такая группировка даёт представление о том как респонденты переживают потерю и позволяет проверить гипотезы о соотношении обычного горя и ЗРГ. Полная версия анкеты приведена в приложении.
В будущих исследованиях стоит использовать специализированные опросники, например Техасскую шкалу горя (TRIG) [6] или опросник Колумбийской школы, профессорки Катерины Шир и коллег. В настоящий момент первая не адаптирована на русский, а второй является проприетарным, что ограничивает его использование в исследованиях. Поэтому я принял решение использовать критерии напрямую из МКБ-11 и ДСМ-5. Для будущих работ стоит изучить насколько адекватно использовать краткий опросник по определению осложнённого горя [7] и TRIG, так как они не являются проприетарными и их можно сравнительно легко адаптировать. При адаптации первого стоит помнить, что осложнённое горе (complicated grief) охватывает более широкий спектр ситуаций, чем ЗРГ [8].
В будущих исследованиях стоит использовать специализированные опросники, например Техасскую шкалу горя (TRIG) [6] или опросник Колумбийской школы, профессорки Катерины Шир и коллег. В настоящий момент первая не адаптирована на русский, а второй является проприетарным, что ограничивает его использование в исследованиях. Поэтому я принял решение использовать критерии напрямую из МКБ-11 и ДСМ-5. Для будущих работ стоит изучить насколько адекватно использовать краткий опросник по определению осложнённого горя [7] и TRIG, так как они не являются проприетарными и их можно сравнительно легко адаптировать. При адаптации первого стоит помнить, что осложнённое горе (complicated grief) охватывает более широкий спектр ситуаций, чем ЗРГ [8].
Выборка
Формировалась автоматически сервисом онлайн-опросов, опрос предъявлялся пользователям сервисов компании Яндекс во всплывающем окне, примеры можно посмотреть по ссылке (https://surveys.yandex.ru/help/index.html). Язык опроса — русский. Важная проблема — при опросе участники не были предупреждены о целях исследования, что делает данное исследование спорным с этической точки зрения. Опрос проводился добровольно, участники были осведомлены о том что они проходят опрос с помощью сервиса онлайн-исследований.
Финансирование опроса осуществлял автор, влияние компании на исследование и его результаты исключено. Достоверность собираемых данных будет дополнительно обсуждена в части Результаты и интерпретация.
В опросе приняли участие 1222 респондента, ниже схема образования выборки:
В опросе приняли участие 1222 респондента, ниже схема образования выборки:
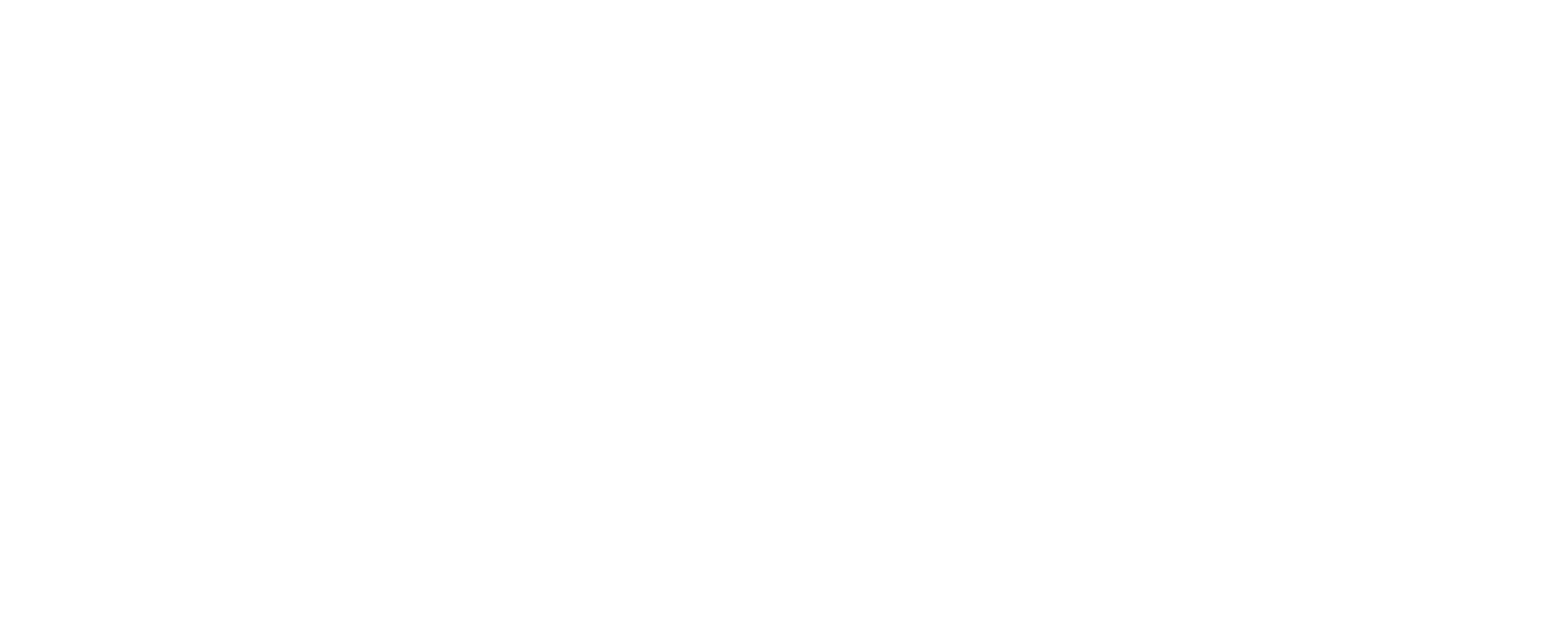
Процесс формирования выборки
Респонс-рейт
Посчитать его трудно, так как нет данных о том какому числу людей был предъявлен опрос. Однако среди ответивших на первый вопрос это значение равно rr=76%. Из 1222, только 298 людей не закончили опрос, получили неверную версию или столкнулись с техническим сбоем.
В выборку для исследования я взял тех кто ответил «Да» на вопрос «Теряли ли вы близких за последние 5 лет?», а так же закончивших опрос. Таких людей было 271.
Социодемографический состав выборки
Возраст: от 18 лет и старше. Значительная часть респондентов ожидается младше 55 лет. Наиболее представленной ожидается группа людей в возрасте от 25 до 44.
Пол: равная представленность полов или смещённый в сторону женщин, точные данные найти затруднительно. Также у меня не было возможности уточнить как человек определяет себя самостоятельно.
Место проживания: Вероятнее всего выборка смещена в сторону крупных городов с населением более миллиона жителей.
Посчитать его трудно, так как нет данных о том какому числу людей был предъявлен опрос. Однако среди ответивших на первый вопрос это значение равно rr=76%. Из 1222, только 298 людей не закончили опрос, получили неверную версию или столкнулись с техническим сбоем.
В выборку для исследования я взял тех кто ответил «Да» на вопрос «Теряли ли вы близких за последние 5 лет?», а так же закончивших опрос. Таких людей было 271.
Социодемографический состав выборки
Возраст: от 18 лет и старше. Значительная часть респондентов ожидается младше 55 лет. Наиболее представленной ожидается группа людей в возрасте от 25 до 44.
Пол: равная представленность полов или смещённый в сторону женщин, точные данные найти затруднительно. Также у меня не было возможности уточнить как человек определяет себя самостоятельно.
Место проживания: Вероятнее всего выборка смещена в сторону крупных городов с населением более миллиона жителей.
Разведочный характер исследования не требовал от меня сосредотачиваться на какой-то конкретной выборке, поэтому я не стал использовать какой-то дополнительной фильтрации и фокусировки. Тем не менее, чтобы получить общее представление о составе выборки, я использовал данные об аудитории интернета в России, и другое похожее исследование 2020.
Результаты и интерпретации
Как проводился анализ данных
Для обработки результатов я использовал кластеризацию. Она позволяет распределить респондентов на отдельные группы по их «схожести» между собой по времени с момента утраты, состояниям и тяжести нарушений. Именно так я могу проверить гипотезу о наличии группы людей с признаками ЗРГ и их доли в выборке. Я использовал два алгоритма: агломеративная кластеризация (agglomerative nesting, AGNES) и разбиение на кластеры вокруг медоидов (partition around medoids, PAM). Об основах кластерного анализа можно почитать тут.
Для обработки результатов я использовал кластеризацию. Она позволяет распределить респондентов на отдельные группы по их «схожести» между собой по времени с момента утраты, состояниям и тяжести нарушений. Именно так я могу проверить гипотезу о наличии группы людей с признаками ЗРГ и их доли в выборке. Я использовал два алгоритма: агломеративная кластеризация (agglomerative nesting, AGNES) и разбиение на кластеры вокруг медоидов (partition around medoids, PAM). Об основах кластерного анализа можно почитать тут.
Для группировки внутри выборки я пользовался AGNES с определением кластеров методом Уорда (Ward), результаты сопоставлялись с результатами PAM. Матрица несходств строилась на основе расстояний Гувера, так как в исследовании используются порядковые и номинативные переменные. Для анализа данных использовался язык R, приложение R-studio и дополнительные пакеты. Код с комментариями и данные по качеству кластеров приведены в приложении, так же там есть таблицы со статистикой по кластерам. Интерпретация полученных кластеров велась как по таблицам, так и с опорой на простую визуализацию. Код для анализа данных и визуализации я взял из статей (первая; вторая) и адаптировал под исследовательские задачи.
Ниже я опишу интерпретации получившихся кластеров после AGNES и PAM. Кластеры расположены по доле выборки, которую охватывают её члены. Замечу, что оба метода дали не идентичные, что не удивительно, но сходные результаты.
Интерпретация агломеративной кластеризации (AGNES)
Я выбрал разбить выборку на 7 кластеров как с учётом метрик (например — расстояние между соседними кластерами), так и с учётом получения адекватной интерпретации и достаточной детализации. Интерпретация проводилась по тепловым картам.
Я выбрал разбить выборку на 7 кластеров как с учётом метрик (например — расстояние между соседними кластерами), так и с учётом получения адекватной интерпретации и достаточной детализации. Интерпретация проводилась по тепловым картам.
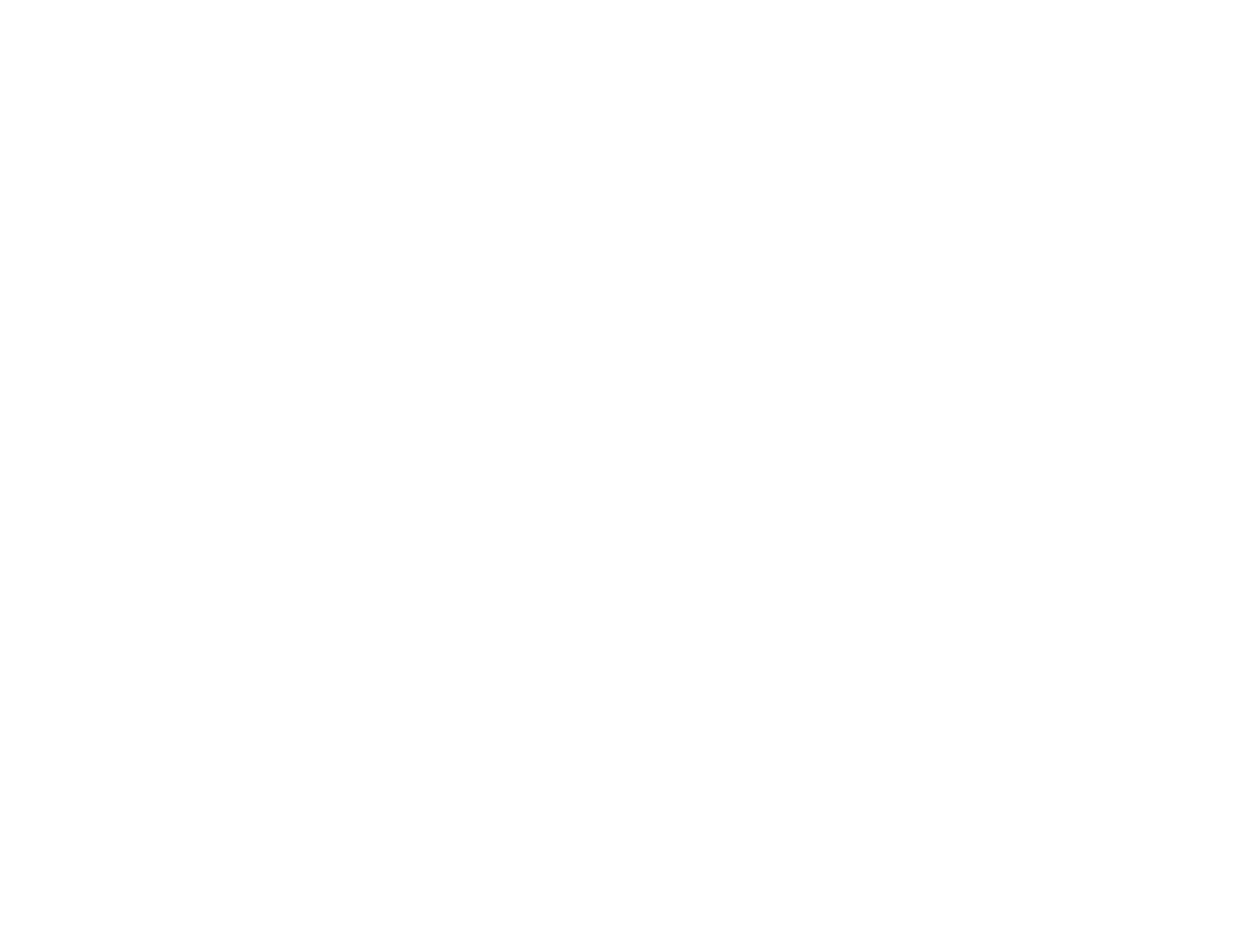
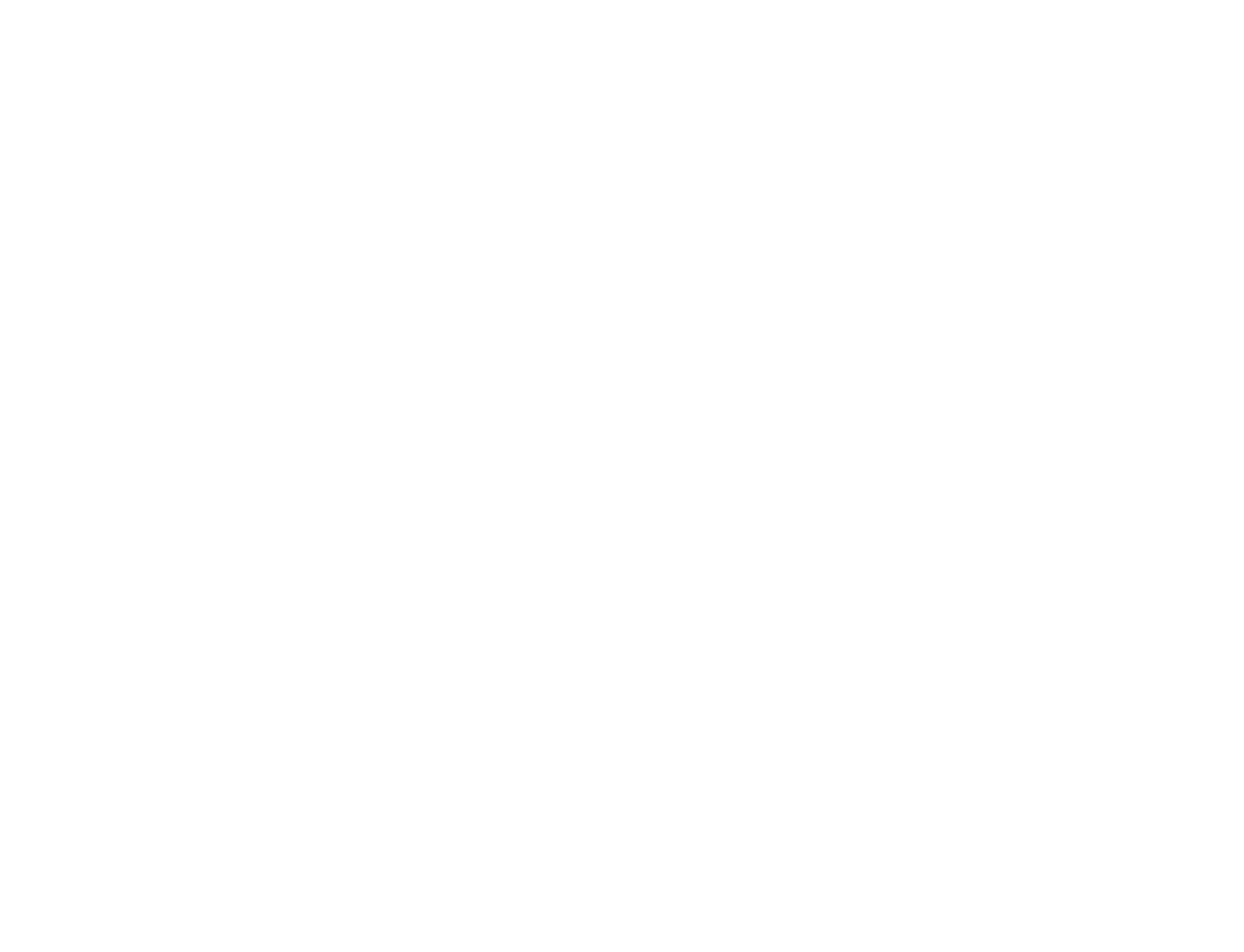
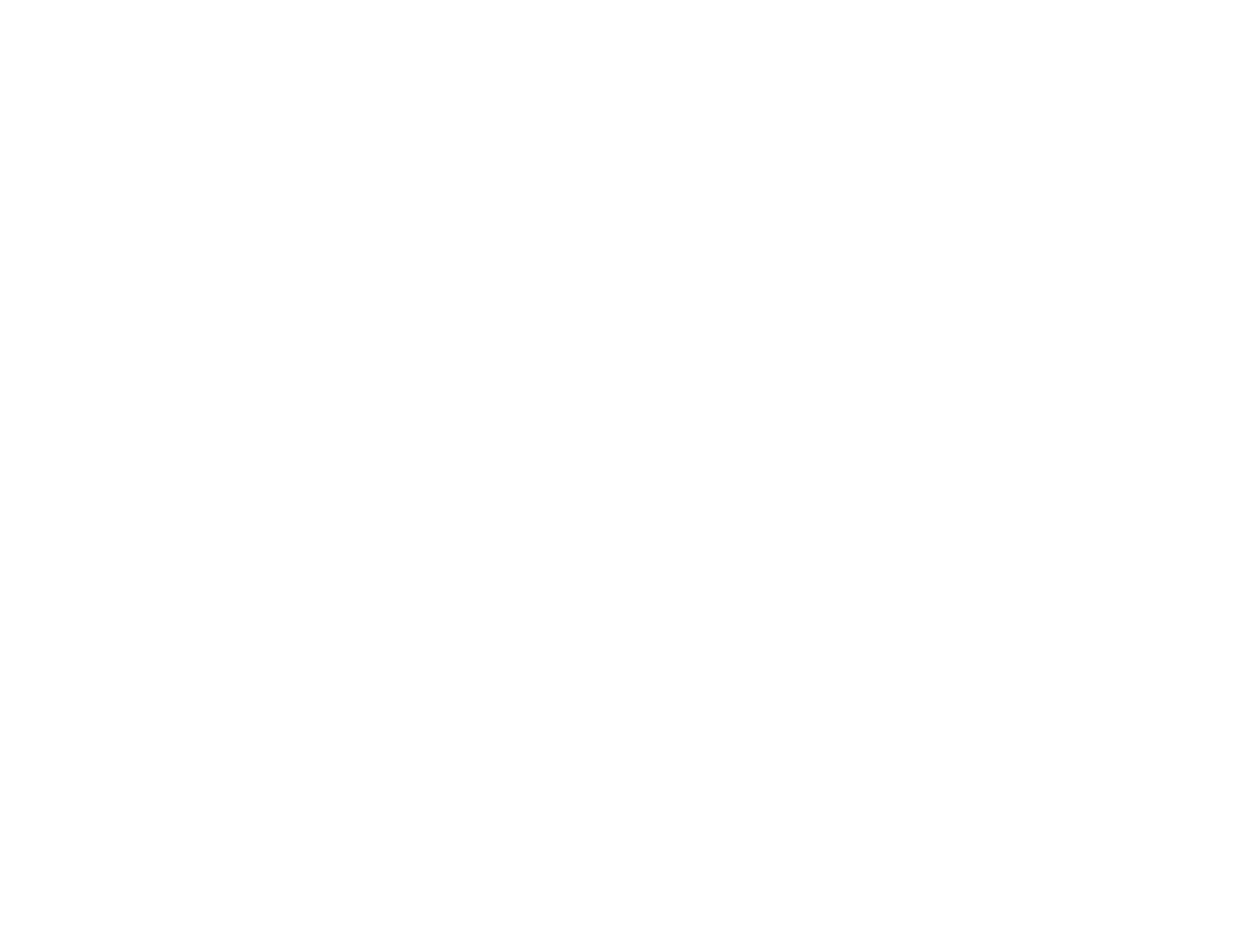
Чем темнее цвет, тем больший процент людей из кластера выбрали ту или иную характеристику. Справа на каждом графике есть столбец с обозначением отношения процентов к цвету.
Например, во втором кластере все его члены выбрали, что им свойственно состояние «Пытаюсь не вспоминать», это можно увидеть на графике в центре во втором столбце, в строке «Пытаюсь не вспоминать_да».
Например, во втором кластере все его члены выбрали, что им свойственно состояние «Пытаюсь не вспоминать», это можно увидеть на графике в центре во втором столбце, в строке «Пытаюсь не вспоминать_да».
Все кластеры я распределил на три класса, это нужно для определения какова доля «обычного» горя в выборке:
Ниже я подробно описываю и интерпретирую каждый кластер.
- Обычное горе — низкое разнообразие внутренних состояний в отношении факта потери, средняя и ниже среднего тяжесть последствий для жизни человека.
- Осложнённое горе — более года с момента потери, разнообразие внутренних состояний и выше среднего тяжесть нарушений в обыденной жизни. Эта группа потенциально может включать людей с ЗРГ.
- Острое горе — недавняя потеря, широкий спектр внутренних состояний в отношении факта потери.
Ниже я подробно описываю и интерпретирую каждый кластер.
Кластер №4 (23% выборки) собрал в себя тех, кто выбрал «Ничего из перечисленного» в описании своих состояний. Большая часть респондентов потеряла близкого более 2 лет назад, тяжесть нарушений они описывают скорее как среднюю или незначительную. Можно описать группу как в целом справившихся с тяготами горевания и описывающих свои состояния несколько иначе, чем это указано в критериях ЗРГ. Эти люди, вероятнее всего, не нуждаются ни в скрининге ни в дополнительной помощи.
Кластер №2 (13 % выборки) Стараются не вспоминать умершего. Тяжесть нарушений в жизни средняя и ниже. В этом кластере большая часть людей потеряла близкого более 2 лет назад, ещё значительная часть потеряла 0,5 года назад. Вероятно для этих людей ближе «парадигма забвения» о которой писал Ф.Е. Василюк. Они вряд ли нуждаются в дополнительной поддержке или скрининге, так как у них низкий спектр состояний близких к описанию ЗРГ, равно как и тяжесть нарушений обыденной жизни невысока. Отчасти полученные данные перекликаются с тем о чём писали Вортман и Боэрнер в своей работе (3) — иногда нам кажется, что «игнорирование» потери это плохой знак, но в действительности нет никаких свидетельств вредности этого состояния ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе. Более того, избыточное давление на людей переживающих так может создать социальную стигму.
№5 кластер (20% выборки) Основная реакция людей в этой группе — тяжесть и печаль. Вероятно это в целом один из нормативных способов описывать свои чувства после потери близких. В этот кластер попали люди с разной степенью нарушенности обыденной жизни, т.е. эта характеристика скорее всего не служила основной для их группировки. Однако значительная часть людей пережило утрату более 2 лет назад. Я бы интерпретировал это так — спустя долгое время «нормально» чувствовать себя тяжело и печально. С другой может иметь место ошибка сбора данных, так как именно это состояния «Тяжело и печально» стояло первым в списке, а гарантировать стабильность перемешивания ответов в форме я не могу.
Кластер №2 (13 % выборки) Стараются не вспоминать умершего. Тяжесть нарушений в жизни средняя и ниже. В этом кластере большая часть людей потеряла близкого более 2 лет назад, ещё значительная часть потеряла 0,5 года назад. Вероятно для этих людей ближе «парадигма забвения» о которой писал Ф.Е. Василюк. Они вряд ли нуждаются в дополнительной поддержке или скрининге, так как у них низкий спектр состояний близких к описанию ЗРГ, равно как и тяжесть нарушений обыденной жизни невысока. Отчасти полученные данные перекликаются с тем о чём писали Вортман и Боэрнер в своей работе (3) — иногда нам кажется, что «игнорирование» потери это плохой знак, но в действительности нет никаких свидетельств вредности этого состояния ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе. Более того, избыточное давление на людей переживающих так может создать социальную стигму.
№5 кластер (20% выборки) Основная реакция людей в этой группе — тяжесть и печаль. Вероятно это в целом один из нормативных способов описывать свои чувства после потери близких. В этот кластер попали люди с разной степенью нарушенности обыденной жизни, т.е. эта характеристика скорее всего не служила основной для их группировки. Однако значительная часть людей пережило утрату более 2 лет назад. Я бы интерпретировал это так — спустя долгое время «нормально» чувствовать себя тяжело и печально. С другой может иметь место ошибка сбора данных, так как именно это состояния «Тяжело и печально» стояло первым в списке, а гарантировать стабильность перемешивания ответов в форме я не могу.
Кластер №3 (18% выборки) Характерной чертой этой группы является широкий диапазон реакций (т.е. много разных описаний состояний одновременно). Также в этой группе собрались те респонденты, которые отметили степень нарушенности своей жизни от средней до сильной. Вероятно, среди той части кластера в которой находятся люди пережившие утрату более 2 лет назад мы могли бы обнаружить тех у кого есть ЗРГ. Важно отметить, что те, кто пережили потерю менее года назад не нуждаются в скрининге на ЗРГ, так как даже «обычное» переживание утраты является достаточно тяжёлым.
Кластер №7 (5% выборки) Характерной особенностью этой группы стало то что они «Крутят мысли об обстоятельствах потери» ( или руминируют). Такая особенность требует пристального внимания у той части кластера, которая потеряла близкого более года назад. Стоит провести скрининг не столько на ЗРГ, сколько на депрессию. Поэтому этот кластер попал в класс осложнённого горя. Другое возможное объяснение — учитывая среднюю тяжесть нарушений, эти люди могут скорее рационализировать потерю, объяснять её неизбежность обстоятельствами.
Кластер №1 (14% выборки) Характерной особенностью этой группы стало то что они «Тоскуют, хотят снова встретиться с ушедшим». Значительная часть группы потеряла близкого более 2 лет назад, а степень нарушенности жизни высокая или выше среднего. С одной стороны тоска вполне нормальное чувство, даже спустя годы, однако с людьми из этой группы стоит оценить суицидальные риски. Возможное объяснение состояния этих людей — давняя потеря крайне значимого для них человека.
Кластер №7 (5% выборки) Характерной особенностью этой группы стало то что они «Крутят мысли об обстоятельствах потери» ( или руминируют). Такая особенность требует пристального внимания у той части кластера, которая потеряла близкого более года назад. Стоит провести скрининг не столько на ЗРГ, сколько на депрессию. Поэтому этот кластер попал в класс осложнённого горя. Другое возможное объяснение — учитывая среднюю тяжесть нарушений, эти люди могут скорее рационализировать потерю, объяснять её неизбежность обстоятельствами.
Кластер №1 (14% выборки) Характерной особенностью этой группы стало то что они «Тоскуют, хотят снова встретиться с ушедшим». Значительная часть группы потеряла близкого более 2 лет назад, а степень нарушенности жизни высокая или выше среднего. С одной стороны тоска вполне нормальное чувство, даже спустя годы, однако с людьми из этой группы стоит оценить суицидальные риски. Возможное объяснение состояния этих людей — давняя потеря крайне значимого для них человека.
Кластер №6 (7% выборки) Значительная часть этой группы потеряла близкого совсем недавно. Также характерной чертой является то, что люди попавшие в этот кластер испытывают вину и/или гневаются. Возможная интерпретация — человек совсем недавно потерял близкого и поэтому испытывает сложное сочетание чувства вины и гнева, это нередко встречается в моей консультативной практике. Интересно, что среди этих людей нет тех, кто руминирует в отношении обстоятельств потери, т.е. эти люди видят причину в самих себе и своих действиях или в действиях кого-то другого.
В классе осложнённое горе, есть кластер №5 в котором люди отмечают у себя:
- С момента потери прошло более 2 лет.
- Выбирают несколько состояний свойственных ЗРГ.
- Указывают на высокую тяжесть нарушений в обыденной жизни.
Интерпретация разбиения вокруг медоидов (PAM)
PAM (partition around medoids) мы используем как проверочный алгоритм, поэтому я выбрал 7 кластеров для удобства с равнения с предыдущей выборкой.
Интерпретация проводилась так же по тепловым картам.
PAM (partition around medoids) мы используем как проверочный алгоритм, поэтому я выбрал 7 кластеров для удобства с равнения с предыдущей выборкой.
Интерпретация проводилась так же по тепловым картам.
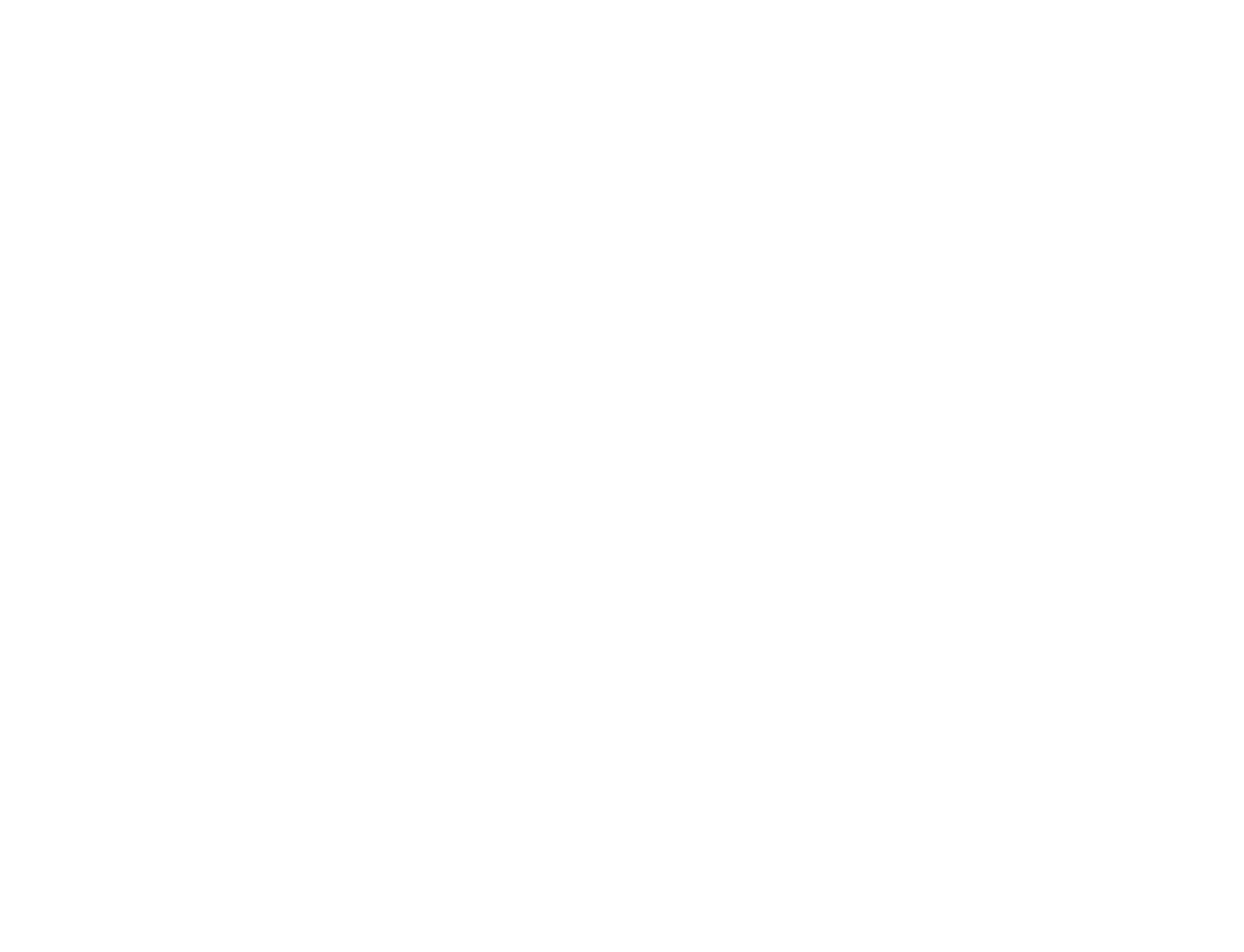
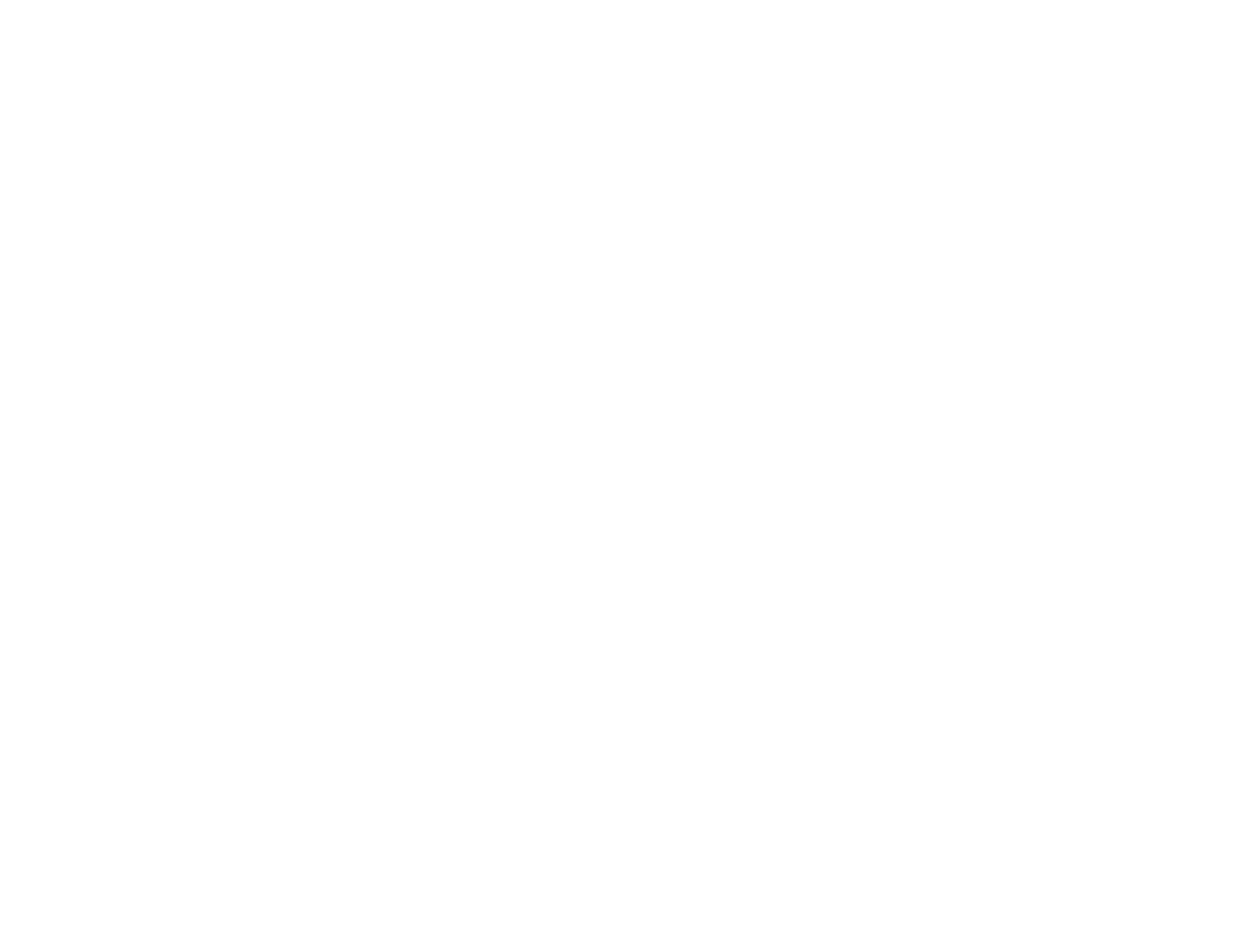
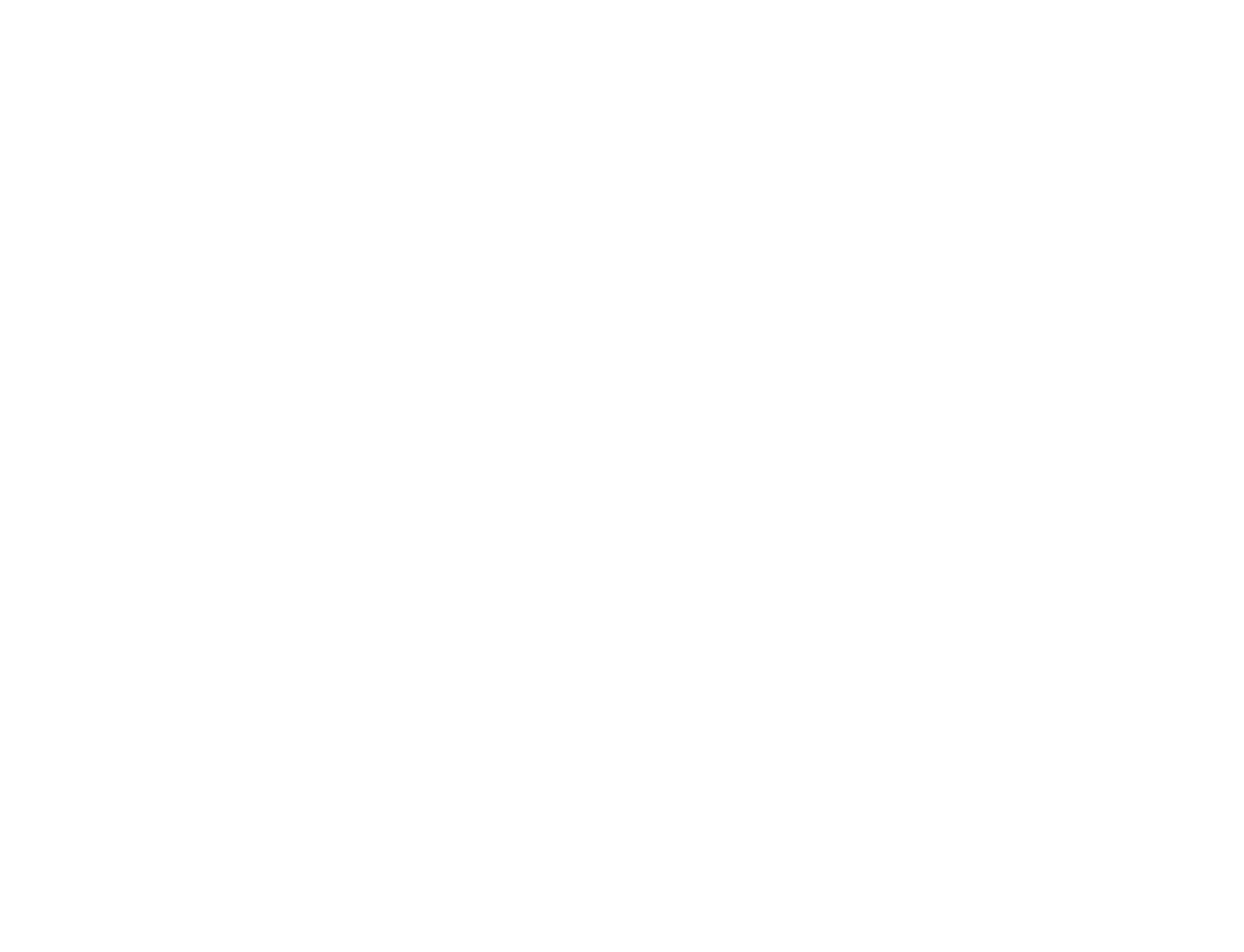
В приведённых ниже данных сумма процентов 101 из-за округления.
Кластер №4 (18% выборки) В этой группе оказались преимущественно люди ответившие «Ничего из перечисленного» на вопрос о своих состояниях. Так же с момента потери у них прошёл год и тяжесть последствий потери незначительная или средняя. В целом интерпретация аналогична кластеру №1 AGNES — у этих людей нет существенных затруднений с переживанием потери.
Кластер №6 (8% выборки) Характерной чертой этой группы является то, что люди совсем недавно потеряли близкого, при этом степень нарушенности жизни они оценивают как незначительную. Возможная интерпретация — эти люди потеряли человека, который не был слишком с ними связан в социальном плане. Так же, возможно это нередкий вариант обычного переживания утраты в котором «интенсивность» переживания совсем невысокая и люди быстро приспосабливаются к ней. Такой сценарий описывают Вортман и Боэрнер. Зачастую переживание таких людей может удивлять «лёгкостью» проявлений. Иногда, даже после значимых потерь, люди не чувствуют ничего особенного после. И как бы это ни было удивительно — это нормально.
Кластер №2 (17% выборки) Эта группа напоминает кластер №2 AGNES. Люди попавшие в неё скорее стараются не напоминать себе о потере.
Кластер №3 (21% выборки) Эта группа напоминает кластер №5 AGNES. У значительной части группы потеря случилась более года назад, а ведущим состоянием является «Тяжесть и печаль».
Кластер №6 (8% выборки) Характерной чертой этой группы является то, что люди совсем недавно потеряли близкого, при этом степень нарушенности жизни они оценивают как незначительную. Возможная интерпретация — эти люди потеряли человека, который не был слишком с ними связан в социальном плане. Так же, возможно это нередкий вариант обычного переживания утраты в котором «интенсивность» переживания совсем невысокая и люди быстро приспосабливаются к ней. Такой сценарий описывают Вортман и Боэрнер. Зачастую переживание таких людей может удивлять «лёгкостью» проявлений. Иногда, даже после значимых потерь, люди не чувствуют ничего особенного после. И как бы это ни было удивительно — это нормально.
Кластер №2 (17% выборки) Эта группа напоминает кластер №2 AGNES. Люди попавшие в неё скорее стараются не напоминать себе о потере.
Кластер №3 (21% выборки) Эта группа напоминает кластер №5 AGNES. У значительной части группы потеря случилась более года назад, а ведущим состоянием является «Тяжесть и печаль».
Кластер №5 (14% выборки) Эта группа напоминает кластер №3 AGNES, отличается тем, что сюда попала заметная доля людей потерявших близких совсем недавно и остро переживающих это. У людей в этой группе широкий спектр реакций и тяжесть нарушений в жизни высокая или выше среднего. Скорее всего в этой группе есть люди нуждающиеся в скрининге на ЗРГ
Кластер №7 (6% выборки) Эта группа напоминает кластер №7 AGNES, прежде всего по тому, что мы наблюдаем среди её членов руминацию как ведущую реакцию. Большая часть группы столкнулась с потерей около полугода назад, а тяжесть нарушений в обыденной жизни средняя и выше среднего.
Кластер №1 (17% выборки) Эта группа напоминает кластер №1 AGNES. Большая часть группы столкнулась с потерей год назад, а степень нарушенности жизни выше среднего и высокая. Ведущее состояние это желание воссоединиться с умершим: «Тоскую, хочу снова встретиться с ушедшим». Это люди давно потерявшие близкого и важного человека. Часть группы обладает нескольким характеристиками, которые подсказывают нам провести скрининг на ЗРГ — более года с момента потери, сильные нарушение, разнообразие состояний связанных с ЗРГ.
Кластер №7 (6% выборки) Эта группа напоминает кластер №7 AGNES, прежде всего по тому, что мы наблюдаем среди её членов руминацию как ведущую реакцию. Большая часть группы столкнулась с потерей около полугода назад, а тяжесть нарушений в обыденной жизни средняя и выше среднего.
Кластер №1 (17% выборки) Эта группа напоминает кластер №1 AGNES. Большая часть группы столкнулась с потерей год назад, а степень нарушенности жизни выше среднего и высокая. Ведущее состояние это желание воссоединиться с умершим: «Тоскую, хочу снова встретиться с ушедшим». Это люди давно потерявшие близкого и важного человека. Часть группы обладает нескольким характеристиками, которые подсказывают нам провести скрининг на ЗРГ — более года с момента потери, сильные нарушение, разнообразие состояний связанных с ЗРГ.
При применении алгоритма PAM не выделилась отдельная группа с острым горем. Люди с этим состоянием попали преимущественно в кластер №5.
В классе осложнённое горе, есть кластер №5 в котором люди отмечают у себя:
Теперь проверим удалось ли нам опровергнуть гипотезы.
- С момента потери прошло более 2 лет.
- Выбирают несколько состояний свойственных ЗРГ.
- Указывают на высокую тяжесть нарушений в обыденной жизни.
Теперь проверим удалось ли нам опровергнуть гипотезы.
Проверка гипотез
Рассмотрим удалось ли опровергнуть гипотезы.
1 гипотеза: В данных опроса мы будем наблюдать группу людей обладающих большим числом маркеров ЗРГ и при этом время прошедшее с последней острой потери будет больше года.
Подобные кластеры мы обнаружили, в наибольшей степени похожи на такое описание кластеры — №3 (AGNES) и №5 (PAM). Гипотезу опровергнуть не удалось, однако, стоит учесть особенность составления анкеты и способ сбора данных.
1 гипотеза: В данных опроса мы будем наблюдать группу людей обладающих большим числом маркеров ЗРГ и при этом время прошедшее с последней острой потери будет больше года.
Подобные кластеры мы обнаружили, в наибольшей степени похожи на такое описание кластеры — №3 (AGNES) и №5 (PAM). Гипотезу опровергнуть не удалось, однако, стоит учесть особенность составления анкеты и способ сбора данных.
2 гипотеза: Означенная группа будет составлять около 10% от выборки
Относительное число людей в этих группах близки к значениям распространённости ЗРГ в популяции, т.е. 10-20%. Гипотеза не может быть опровергнута на мох данных. В следующих исследованиях стоит использовать более строгую процедуру исследования.
3 гипотеза: В данных опроса будет найдена группа в которой люди встретившиеся с утратой более года назад будут обладать узким спектром маркёров обозначенных в МКБ-11, а так же будут оценивать свою жизнь как «наименее нарушенную утратой». Такая группа будет составлять более половины выборки.
Гипотеза также не опровергнута на моих данных. Такие группы это кластеры №1 (AGNES) и №4 (PAM). Так же под это описание подходят и другие кластеры из класса Обычное горе. В будущих исследованиях можно проверить данные других исследований по разнообразию маршрутов переживания утраты.
Относительное число людей в этих группах близки к значениям распространённости ЗРГ в популяции, т.е. 10-20%. Гипотеза не может быть опровергнута на мох данных. В следующих исследованиях стоит использовать более строгую процедуру исследования.
3 гипотеза: В данных опроса будет найдена группа в которой люди встретившиеся с утратой более года назад будут обладать узким спектром маркёров обозначенных в МКБ-11, а так же будут оценивать свою жизнь как «наименее нарушенную утратой». Такая группа будет составлять более половины выборки.
Гипотеза также не опровергнута на моих данных. Такие группы это кластеры №1 (AGNES) и №4 (PAM). Так же под это описание подходят и другие кластеры из класса Обычное горе. В будущих исследованиях можно проверить данные других исследований по разнообразию маршрутов переживания утраты.
Выводы
Разберём некоторые пары кластеров, которые на мой взгляд ставят перед нами интересные вопросы, открывают пространство для дискуссии и дальнейшего исследования.
Кластер №2 AGNES и PAM
Анализ этих кластеров наводит на мысль о том, что один из способов обращения с потерей это не вспоминать о ней. Похоже что такой способ вполне обычный и не несёт с собой угрозы, так люди оценивают нарушение своей жизни в целом как среднее и ниже. Является ли это практической реализации парадигмы забвения о которой писал Ф.Е. Василюк? Или быть может это особый способ обращения с памятью? Часто практиками нежелание говорить об умершем воспринимается как «отрицание», «сопротивление» и тому подобное. В действительности это может оказаться вполне адекватным способом обращения с потерей, как в частности об этом пишут другие исследователи (3). Мне неизвестны работы изучающие именно такой способ переживания, хотя в недавней истории России вполне достаточно как обыденных, так и экстраординарных обстоятельств в которых люди теряли близких. Что касается психологических интервенций, то встречая таких людей стоит быть осторожными и не навязывать свои взгляды на то «как правильно», осторожно уточняя насколько память о прошлом мешает ему/ей жить дальше и как бы он/она хотели бы помнить и как забывать. Забвение также необходимо, ведь далеко не всё хочется нести с собой. Однако память она как гроб — если мы от него просто отворачиваемся он никуда не денется, нужно что-то с ним сделать.
Кластеры №1 AGNES и PAM
Туда попали люди, которые Тоскуют и хотят снова увидеться с умершим. Учитывая то, что в этот кластер попали люди потерявшие близких более года назад и при этом их жизнь существенно нарушена утратой, возможно это те у кого умер очень близкий человек — супруг/а, кто-то из близких родственников, ребёнок или быть может близкий друг или подруга. Требуется ли таким людям помощь? Скорее всего нет, так как слишком узкий спектр состояний, однако настораживает воспринимаемая высокая степень нарушенности жизни. В практике таким людям может быть ценен поиск способов поддержания связи и памятования, об этом много писали сторонники парадигмы продолжающейся связи (continuing bond) (9, 10, 11).
Кластер №5 AGNES, кластер №3 PAM
Оба кластера, можно описать как группу людей для которых ведущим состоянием в переживании утраты является «Тяжело и печально». Возможно этот кластер — дефект сбора данных. Пункт «Тяжело и печально» стоял первым в списке описаний внутренних состояний. Во время опроса для каждого респондента пункты перемешивались, но гарантировать надёжность перемешивания я не могу, это находится на стороне сервиса, которым я пользовался. Если же представить, что технически всё собрано верно, то можно интерпретировать появление такой группы как описание своего состояния типичное для тех, кто столкнулся с потерей давно и проделал некоторый путь переживания. По прошествии времени печаль не уходит вне зависимости от того насколько тяжёлой оказался удар потери. Вполне нормально не испытывать каких-то особенно возвышенных чувств. В моей практике я нередко наблюдаю как люди постепенно оставляют мысль о том, что они хотят «светлой грусти» и находят какие-то свои слова. Мне кажется важным для практика не создавать нереалистичных и недостижимых сценариев переживания утраты и помнить о том, что скорбь вполне нормальна даже спустя годы, особенно если человек видит смысл.
Смешение людей с потенциально острым гореванием и тех у кого возможно ЗРГ в кластере №5 PAM
Эти группы и правда очень похожи, их единственное отличие в моих данных это время с момента потери. Конечно, время один из ненадёжных критериев, ведь в разных культурах «нормальная» длительность горевания различна. Разделение людей на тех кто «успел» и кто «не успел» уложиться в придуманные нами нормы может создавать проблемы. Об этом хорошо написала Нэнси Шепер-Хьюз (12) в работе о переживании женщинами в Бразилии смерти маленьких детей. Тем не менее в реальной практике оставить все критерии и открыться бурным водам переживания означает быть бесполезным для клиента/ки или пациента/ки. Если вы видите человека, который несмотря на прошедшие годы страдает от скорби, лучшее, что можно сделать — поговорить с ним/ей без осуждения и давления в духе «уже хватит». Потери тяжелы и непросто ощутить себя возможным в изменившемся мире, иногда на это требуются годы, иногда это невозможно завершить.
Анализ этих кластеров наводит на мысль о том, что один из способов обращения с потерей это не вспоминать о ней. Похоже что такой способ вполне обычный и не несёт с собой угрозы, так люди оценивают нарушение своей жизни в целом как среднее и ниже. Является ли это практической реализации парадигмы забвения о которой писал Ф.Е. Василюк? Или быть может это особый способ обращения с памятью? Часто практиками нежелание говорить об умершем воспринимается как «отрицание», «сопротивление» и тому подобное. В действительности это может оказаться вполне адекватным способом обращения с потерей, как в частности об этом пишут другие исследователи (3). Мне неизвестны работы изучающие именно такой способ переживания, хотя в недавней истории России вполне достаточно как обыденных, так и экстраординарных обстоятельств в которых люди теряли близких. Что касается психологических интервенций, то встречая таких людей стоит быть осторожными и не навязывать свои взгляды на то «как правильно», осторожно уточняя насколько память о прошлом мешает ему/ей жить дальше и как бы он/она хотели бы помнить и как забывать. Забвение также необходимо, ведь далеко не всё хочется нести с собой. Однако память она как гроб — если мы от него просто отворачиваемся он никуда не денется, нужно что-то с ним сделать.
Кластеры №1 AGNES и PAM
Туда попали люди, которые Тоскуют и хотят снова увидеться с умершим. Учитывая то, что в этот кластер попали люди потерявшие близких более года назад и при этом их жизнь существенно нарушена утратой, возможно это те у кого умер очень близкий человек — супруг/а, кто-то из близких родственников, ребёнок или быть может близкий друг или подруга. Требуется ли таким людям помощь? Скорее всего нет, так как слишком узкий спектр состояний, однако настораживает воспринимаемая высокая степень нарушенности жизни. В практике таким людям может быть ценен поиск способов поддержания связи и памятования, об этом много писали сторонники парадигмы продолжающейся связи (continuing bond) (9, 10, 11).
Кластер №5 AGNES, кластер №3 PAM
Оба кластера, можно описать как группу людей для которых ведущим состоянием в переживании утраты является «Тяжело и печально». Возможно этот кластер — дефект сбора данных. Пункт «Тяжело и печально» стоял первым в списке описаний внутренних состояний. Во время опроса для каждого респондента пункты перемешивались, но гарантировать надёжность перемешивания я не могу, это находится на стороне сервиса, которым я пользовался. Если же представить, что технически всё собрано верно, то можно интерпретировать появление такой группы как описание своего состояния типичное для тех, кто столкнулся с потерей давно и проделал некоторый путь переживания. По прошествии времени печаль не уходит вне зависимости от того насколько тяжёлой оказался удар потери. Вполне нормально не испытывать каких-то особенно возвышенных чувств. В моей практике я нередко наблюдаю как люди постепенно оставляют мысль о том, что они хотят «светлой грусти» и находят какие-то свои слова. Мне кажется важным для практика не создавать нереалистичных и недостижимых сценариев переживания утраты и помнить о том, что скорбь вполне нормальна даже спустя годы, особенно если человек видит смысл.
Смешение людей с потенциально острым гореванием и тех у кого возможно ЗРГ в кластере №5 PAM
Эти группы и правда очень похожи, их единственное отличие в моих данных это время с момента потери. Конечно, время один из ненадёжных критериев, ведь в разных культурах «нормальная» длительность горевания различна. Разделение людей на тех кто «успел» и кто «не успел» уложиться в придуманные нами нормы может создавать проблемы. Об этом хорошо написала Нэнси Шепер-Хьюз (12) в работе о переживании женщинами в Бразилии смерти маленьких детей. Тем не менее в реальной практике оставить все критерии и открыться бурным водам переживания означает быть бесполезным для клиента/ки или пациента/ки. Если вы видите человека, который несмотря на прошедшие годы страдает от скорби, лучшее, что можно сделать — поговорить с ним/ей без осуждения и давления в духе «уже хватит». Потери тяжелы и непросто ощутить себя возможным в изменившемся мире, иногда на это требуются годы, иногда это невозможно завершить.
Доверие данным
У меня были сомнения в качестве собранных данных, так как было несколько технических сбоев при проведении опроса. Тем не менее я решил доверять данным, так как были найдены кластеры в которых вероятнее всего мы наблюдаем ЗРГ и их относительное количество в выборке приближено к таковому в других исследованиях.
Чтобы проверить данные глубже стоит сопоставить ответы на первый вопрос о наличии утраты за последние 5 лет, в данный момент я не представляю себе инструмента для оценки распределения ответов на этот вопрос.
В других исследованиях через эту платформу стоит продумать способы проверки того насколько это действительно реальные данные.
Также в анкете была опечатка во втором вопросе, однако вряд ли она существенно повлияла на качество данных.
Чтобы проверить данные глубже стоит сопоставить ответы на первый вопрос о наличии утраты за последние 5 лет, в данный момент я не представляю себе инструмента для оценки распределения ответов на этот вопрос.
В других исследованиях через эту платформу стоит продумать способы проверки того насколько это действительно реальные данные.
Также в анкете была опечатка во втором вопросе, однако вряд ли она существенно повлияла на качество данных.
Заключение
Горе может быть разным и даже имена для этого переживания бывают совершенно разными, как пишет об этом Анна Вержбицка (13). В практике крайне важно уделять внимание нюансам и деталям жизни конкретного человека. Упаковывая всех в типологии, нормы и прочее мы скорее выставляем себя не в лучшем свете и мало чем можем помочь людям. Если использовать медицинскую метафору, то работа психолога консультанта и психотерапевта в эти случаях будет напоминать паллиативную помощь. Мы можем помогать найти пути улучшить жизнь вне территории затронутой утратой, помочь человеку испытать маленький опыт нормальности, там где он или она считает это уместным. Часто это что-то совсем незначительное: начать регулярно чистить зубы и мыться, есть еду, пойти в ресторан, купить что-то приятное или нужное. Маленький опыт нормальности поможет жить дальше вместе с потерей. Мне видится бесполезным сосредотачиваться на потере самой по себе, ведь объективно никто не в силах «вернуть как было».
Введение затяжного расстройства горевания как диагностическую единицу в МКБ-11 крайне неоднозначно и я не могу сказать, что в полной мере поддерживаю это как практик. Однако, чем больше мы будем исследовать, тем более вероятно, что мы сможем найти какие-то реальные основы для выделения такого рода расстройства. Ведь появление ЗРГ скорее знаменует собой дестигматизацию большей части проявлений скорби, за более чем вековую историю осмысления горя в психотерапии, можно заметить как территория «ненормальности» скорби становиться всё меньше и меньше.
Введение затяжного расстройства горевания как диагностическую единицу в МКБ-11 крайне неоднозначно и я не могу сказать, что в полной мере поддерживаю это как практик. Однако, чем больше мы будем исследовать, тем более вероятно, что мы сможем найти какие-то реальные основы для выделения такого рода расстройства. Ведь появление ЗРГ скорее знаменует собой дестигматизацию большей части проявлений скорби, за более чем вековую историю осмысления горя в психотерапии, можно заметить как территория «ненормальности» скорби становиться всё меньше и меньше.
Источники
- Kim, J., Tol, W. A., Shrestha, A., Kafle, H. M., Rayamajhi, R., Luitel, N. P., Thapa, L., & Surkan, P. J. (2017). Persistent Complex Bereavement Disorder and Culture: Early and Prolonged Grief in Nepali Widows. Psychiatry, 80(1), 1–16.https://doi.org/10.1080/00332747.2016.1213560
- Killikelly, C., Zhou, N., Merzhvynska, M., Stelzer, E.-M., Dotschung, T., Rohner, S., Sun, L. H., & Maercker, A. (2020). Development of the international prolonged grief disorder scale for the ICD-11: Measurement of core symptoms and culture items adapted for chinese and german-speaking samples. Journal of Affective Disorders, 277, 568–576.https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.08.057
- Wortman C. B., Boerner K. Beyond the Myths of Coping with Loss: Prevailing Assumptions Versus Scientific Evidence //The Oxford Handbook of Health Psychology. – 2011. – С. 438.
- Diagnosis of Complicated Grief Using the Texas Revised Inventory of Grief, Brazilian Portuguese Version. (2016). Journal of Psychology & Clinical Psychiatry, Volume 6(Issue 1).https://doi.org/10.15406/jpcpy.2016.06.00316
- Jordan, A. H., & Litz, B. T. (2014). Prolonged grief disorder: Diagnostic, assessment, and treatment considerations. Professional Psychology: Research and Practice, 45(3), 180–187.https://doi.org/10.1037/a0036836
- Holm, M., Alvariza, A., Fürst, C.-J., Öhlen, J., & Årestedt, K. (2018). Psychometric evaluation of the Texas revised inventory of grief in a sample of bereaved family caregivers. Research in Nursing & Health, 41(5), 480–488.https://doi.org/10.1002/nur.21886
- Shear, M. K., Simon, N., Wall, M., Zisook, S., Neimeyer, R., Duan, N., Reynolds, C., Lebowitz, B., Sung, S., Ghesquiere, A., Gorscak, B., Clayton, P., Ito, M., Nakajima, S., Konishi, T., Melhem, N., Meert, K., Schiff, M., O'Connor, M.-F., … Keshaviah, A. (2011). Complicated grief and related bereavement issues for DSM-5. Depression and Anxiety, 28(2), 103–117.https://doi.org/10.1002/da.20780
- Maciejewski, P. K., Maercker, A., Boelen, P. A., & Prigerson, H. G. (2016). "Prolonged grief disorder" and "persistent complex bereavement disorder", but not "complicated grief", are one and the same diagnostic entity: An analysis of data from the Yale Bereavement Study. World Psychiatry, 15(3), 266–275.https://doi.org/10.1002/wps.20348
- Klass, D., Silverman, P. R., & Nickman, S. L. (1996). Continuing bonds: New understandings of grief. Taylor & Francis.
- Lalande, K. M., & Bonanno, G. A. (2006). Culture and Continuing Bonds: A Prospective Comparison of Bereavement in the United States and the People's Republic of China. Death Studies, 30(4), 303–324.https://doi.org/10.1080/07481180500544708
- Klass, D., & Steffen, E. M. (Ред.). (2017). Continuing Bonds in Bereavement: New Directions for Research and Practice. Routledge.https://doi.org/10.4324/9781315202396
- Шепер-Хьюз, Н. (2018). Смерть без плача: Похороны ангелов. (Избр. Страницы 179–181) (Ю. Шубин, Пер.). Археология русской смерти, 6(1), 176–205.
- Wierzbicka, A. (2003). Emotion and Culture: Arguing with Martha Nussbaum. Ethos, 31(4), 577–600.
Приложение
Датасет и код можно скачать на моём диске. Пиши, если будут вопросы мне в ТГ. Даже если вопросов нет — пиши, я буду рад обсудить исследование.
Ниже на картинках статистика по кластерам.
Ниже на картинках статистика по кластерам.

